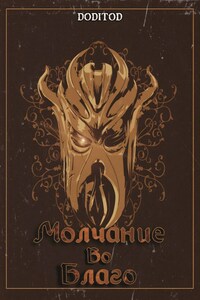Мир изогнутых истин, затерянных среди тёмных вод бесконечного
знания. Воздух здесь густ, словно мёд, пропитан шёпотом чуждых
голосов, что нашёптывают древние тайны, которые смертный разум не в
силах постичь. Огромные колонны из живого камня извиваются, как
гигантские щупальца, переплетаясь между бесконечными полками,
набитыми книгами, свитками и кодексами, чьи страницы скручиваются в
спирали и шевелятся, будто дышат.
Мрак здесь не просто тьма — это ощущение тяжести, нависшей над
каждым клочком пространства, будто сам воздух здесь наполнен
глазницами, невидимыми, но всевидящими. И если войти в него без
факела или магического фонаря, он тебя пожрёт.

Среди этого хаоса, над бездонной пропастью из теней и
пергамента, левитировала фигура. Чемпион самого хозяина этого
великого плана, Обливиона. Хотя он привык называть себя
узником.
Его тело было словно подвешено за невидимые нити. Он казался
неподвижен, заключён в стазис. Но разум — он оставался живым. Он
пробирался сквозь узоры безвременья, скользил по трещинам в тканях
пространства, чувствовал, как чуждая энергия этого места пыталась
проникнуть глубже, вплестись в самую суть его «я», растворить
границы между ним и безликой пустотой.
Но он плёл защиту вокруг головы, тонкую, но прочную, как нити
паутины, сплетённой древними заклинателями. Энергия, закручиваясь,
образовывала невидимый кокон, не давая словам и идеям из окружающих
книг проникнуть в его разум. Он знал, как это происходит. Видел не
раз — слишком часто, чтобы забыть. Люди, что жадно глотали знание,
не замечая, как оно превращается в яд, размывая границы их
собственного «я», оставляя за собой пустые оболочки с глазами,
полными иллюзий чужих мыслей.

Пока его пальцы едва ощутимо двигались в ритме защитного
плетения, сознание упрямо возвращалось к одному и тому же дню. Тот
момент был врезан в память, словно шрам, который не затянуть ни
временем, ни волей.
— “Сколько я уже здесь?” — произнёс он исключительно в своих
мыслях, но его сердце трепетало от возбуждения. Великий план, в
который он вложил кучу времени, постаравшись вложить в него тот же
опыт, что имеется у Хермеуса Моры, вот-вот будет завершён. — “Пять
тысяч лет? Может, больше? Может, меньше?”
Лучшая игрушка Хермеуса Моры, и, конечно, у этого была
причина.
Мирак.