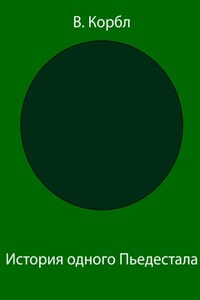Вокруг нас всегда роится слишком много слов для того, что бы быть безмятежным. И в каждой мелочи слова, и в каждом жесте. Они покалывают в каждом взгляде. Они на вдохе, и в каждом выдохе. И даже безмолвие обжито их эхом. И в нашем прожитом уже нет крови, а есть только слова. И каждую секунду, вновь и вновь настигая будущее, мы окунаемся в слова с головой. И, значит, и будущее, уготованное нам, не безмятежно.
Да и ладно. Немногословие хорошо для эпитафий.
Грядущее беззвучно, даже немо, оно само – обращённый в сегодня слух. Оно так зависимо от наших слов, и потому внимательно их запоминает, фиксирует. Но когда восходят февральские волчьи звёзды, и колючие метели вытесняют с улиц вечернюю суету, то и мой слух становится чуток. Я слышу голоса пустынь, в барханах которых заблудились тысячелетия. Я слышу никогда никем не произнесённые слова, слова, не знавшие тепла гортани, её трепета…. И только растёртый в пыль кварц шепчет и шепчет их в своих вечных играх с седыми от солнца и созвездий ветрами.
Пространные тексты осенних наводнений с сутулыми ремарками на подтопленных берегах. Остылость камня набережных, протянутых из чужого прошлого в будущее-уже-без-нас, остылость настолько неизменная, что и «хорошо бы выпить кофе» стало здесь вечным лейтмотивом, и вот уже и последняя палая листва в парках пахнет «арабикой». Здесь вообще всё неизменно в своей цикличности, всё отмерено подвешенным к Полярной звезде маятником Фуко, и, кажется, что, не родись Далай-лама в Тибете, то он, наверное, родился бы здесь, под нескончаемые, как инь – ян, смены утомлённых собою белых ночей, и пропитанной простудой, переросшей время суток, и ставшей временем года, тьмы.
И твои слова, даже слова, произнесённые про себя, лишь эхо меж его стен, видевших всякое, видевших как золото и серебро иных веков сменялись ржавеющим жестяным безвременьем, грохочущим от любого ветерка, и чего только ни слышавших, и никакой интонацией их тоже не удивишь. И каждое утро здесь – это всегда в некотором роде продумывание предлагаемых обстоятельств. Сидишь с дымящимся кофе, и как в гримёрке, прислушиваешься к звукам, доносящимся из зала, на сцену которого ты выйдешь, сделав лишь шаг за порог своей двери. Я много лет пытался выделить главную тему в этой утренней полифонии, я надеялся, что она есть, казалось – найди её, услышь, и всё обретёт новый, доселе скрытый, смысл, и сфинксы у Академии художеств улыбнуться, и ши-цза на Петровской набережной расслабленно потянутся своими затёкшими телами…. Но её нет, – этой темы. И ни кирпичные тамтамы обалдевших от собственного нового пёстрого содержания лофтов, ни окрашенные в коньячные тона музыкальные цитаты кофеен, – они ни о чём, как, впрочем, и любые другие барабаны, и любые другие цитаты. И лишь ликующий эрос в походках, жестах и взглядах девушек и некоторых женщин…. И Река, равнодушно текущая помимо наших гранитных иллюзий.