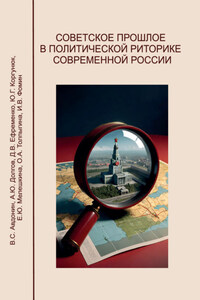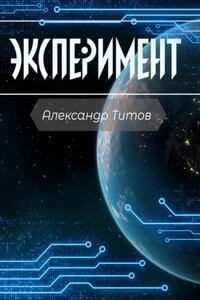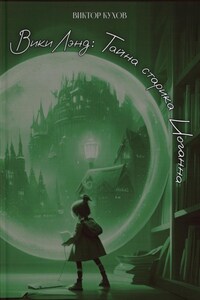Отношение к историческому опыту и его использование являются важной составляющей современной политики. Отсылки к этому опыту присутствуют в различных проектах формирования национальной идентичности, конструирования и консолидации нации и ее границ. Как отмечает Р. Брубейкер, нацию можно рассматривать как «точку зрения на мир» [Brubaker, 2004, p. 81]. Соответственно, соотношение возникающих и конкурирующих нарративов, официальная политика памяти, в которой образ прошлого занимает важное место, во многом определяют нынешние и будущие контуры национальной идентичности и наций в целом.
В связи с этим особый интерес представляют государства, которые появились на карте мира в результате распада СССР. Несмотря на то что новые независимые государства в значительной степени отличаются друг от друга, их объединяют нерешенность задач формирования политической нации, опыт существования в составе больших политий и ностальгия по советским временам у значительной части населения. Так, например, опрос «Левада-центра» в марте 2016 г. (опрошено 1600 человек в 48 регионах) свидетельствовал о том, что 56 % респондентов сожалеют о распаде СССР, 68 % хотели бы восстановления СССР[1].
Образы СССР, советского прошлого, связанных с ним дат и лидеров активно используются в публичной риторике представителей органов государственной власти, политических партий России и лидеров общественного мнения. Некоторые из них (например, КПРФ и «Коммунисты России») пытаются сыграть на ностальгических настроениях части населения страны; другие, напротив, акцентируют отрицательные стороны данных образов или осторожно касаются этой темы, но в любом случае вынуждены так или иначе определять свою позицию. Транслируемый политическими акторами образ СССР меняется с течением времени, одни аспекты в нем акцентируются, другие замалчиваются.
Возрастающая роль позитивных отсылок к советскому прошлому, используемых властвующими элитами в качестве инструмента легитимации режима и конструирования национальной идентичности, – одна из главных тенденций в развитии официального российского политического дискурса 2000–2010-х годов. Часть исследователей, в особенности зарубежных, видят в этой тенденции признаки ресоветизации и даже ресталинизации нарративов исторической памяти и национальной идентичности во властном дискурсе [напр.: Khapaeva, 2016; Kuzio, 2018]. По этой линии во многом проходит содержательный водораздел между символической политикой ельцинского и путинского периодов [Малинова, 2016a, с. 148]. Первое знаковое решение, ознаменовавшее поворот в этом направлении, было принято уже в 2000 г., когда из гимна СССР была позаимствована мелодия нового государственного гимна России. Через пять лет, в 2005 г., президент в ежегодным Послании к Федеральному собранию назвал крушение Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой века»