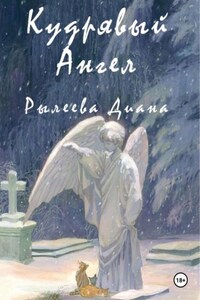Ветер, словно разъяренный зверь, терзал старый, покосившийся домик на окраине города. Его вой проникал сквозь щели в прогнивших рамах, свистел в дырах, заткнутых тряпками, и хлестал по окнам, как бичом. Внутри, в этом маленьком, тесном пространстве, царила своя, не менее свирепая буря. Запах перегара, въевшийся в стены, мебель, одежду, смешивался с затхлым воздухом, пропитанным плесенью, пылью и отчаянием. Этот запах стал для семилетнего Серафима таким же привычным, как запах материнского молока, которого он почти не помнил. Он знал этот запах наизусть, чувствовал его в каждой клеточке своего маленького, постоянно дрожащего от холода тела.
Юлия, его мать, лежала на полу и спала, свернувшись калачиком на грязном, помятом одеяле. Когда-то красивая женщина с глазами цвета летнего неба, теперь она была лишь жалкой тенью своей прежней себя. Лицо ее было изможденным, опухшим, изборожденным тонкими морщинками, которые глубоко врезались в кожу, как следы прожитой боли. Серая, обветренная кожа была покрыта тонкой сеточкой капиллярных сосудов, придавая ей нездоровый, сероватый оттенок. Из-под запачканных ресниц медленно катились слезы, оставляя на пыльной щеке мокрые, соленые дорожки. Ее рыдания были тихими, хриплыми, прерывающимися из-за судорожного вздоха, который с трудом вырывался из измученных легких.
Рядом с ней, на подоконнике, сидел Сергей, отец Серафима. Он медленно поворачивал в руках почти пустую бутылку из-под дешевого вина, изредка проводя по ней грязными пальцами, словно прощаясь с последними каплями призрачного утешения. Его лицо было искажено, изборождено глубокими бороздами, свидетельствовавшими о бесконечных запоях и тяжелой жизни. Глаза его были пустые, потухшие, как угасающие угольки. Громкий вой ветра за окном сливался с его глубоким, прерывающимся вздохом, создавая мрачный дуэт отчаяния и безысходности.
Повсюду лежали шприцы, иголки, какие-то пакетики. Всё было перевернуто. Сергей бросил в стену бутылку. Она разлетелась в осколки. Ему не было дела до ребенка, что тот поранится или что-то еще.
Серафим, прижавшись к холодной стене, прятался под столом, за тонкой, скрипучей ножкой, которая вот-вот должна была сломаться под его весом. Его кудрявые волосы цвета спелой пшеницы прикрывали лицо, но не могли скрыть следы старых синяков, которые постепенно сменялись новыми. Маленькие, худенькие бледные ручки сжимали игрушечную машинку, единственное сокровище в его жизни, затертое до дыр, с отваливающимся колесом. Он прижимал ее к груди, словно к спасательному кругу в бурном море своей жизни, зажмуривая глаза и напрягая все мышцы от страха. Серафим прислушивался к реву бури снаружи и к пугающей тишине внутри, тишине, которая была еще страшнее, чем крики.