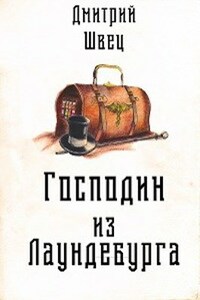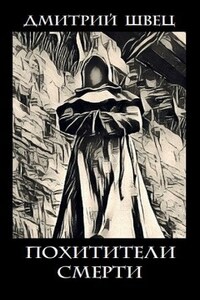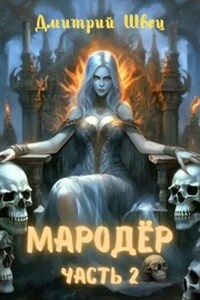Истошный, полный раздражения и злобы, девичий крик разорвал
тишину и скуку тихого домашнего вечера. Я вздрогнул. От
неожиданности, взмахнул руками и выронил газету. Та зашелестела,
расправилась, обдав ароматом типографской краски и свернулась у
ног.
Я заскрипел зубами. Надо же так, уронить газету. Я мог делать с
ней все, что угодно. Я мог спать с ней в руках, мог катать из нее
шарики или складывать лебедей. Я мог порвать газету на мелкие
клочки и сжечь прямо тут, на столе. Я мог читать ее в слух,
обсуждая, или осуждая очередные царские указы. Я мог делать с
газетой все, что только взбредет в голову. Но уронить ее означало
привлечь к себе ненужное внимание Анастасии Павловны.
И чего мне спрашивается в комнате не сиделось. Чего там-то не
спалось? Три месяца не видел никого из родных и слуг, мог бы
потерпеть до вечера. А там уже, когда в гостиной накроют стол, и
вся семья рассядется за ним, поедая исходящие паром овощи,
вгрызаясь зубами в тушеные ребрышки, запивая шикарным,
свежезаваренным чаем с ягодками клюквы. Вот там и насмотрелся бы на
всех.
Я покосился на гувернантку. Анастасия Павловна оторвалась от
книги, но убирать ее не спешила, по-прежнему держа открытой. Взгляд
ее, направленный поверх очков был направлен в прихожую. По мне он
лишь скользнул, мимолетом стегнув осуждающей плеткой.
Хотелось сгореть, провалиться сквозь землю, исчезнуть. Крикнуть
Ильяса, приказать заложить бричку и укатить назад, в гимназию. Там
гувернантка меня не найдет. Но ни того, ни другого сделать я не
мог. Провалиться сквозь землю не может никто, а вернуться в
гимназию не дают каникулы. Там кроме старого седого, подслеповатого
солдата и его тысячи историй больше нет никого. А нам, гимназистам,
строго запрещено заходить на кухню. Под страхом смерти. Две недели
на сухарях, я не протяну.
Вновь заскрипели мои зубы, на этот раз сдерживая рвущиеся изо
рта ругательства. Да, в гимназиях учат не только наукам, но и
знаниям реально полезным, но Анастасии Павловне знать об этом
совсем не обязательно. Как и моим родителям. Но родители, что?
родители стерпят и смирятся. Пожурят немного, слово возьмут, что я
ни в их присутствии, ни в присутствии сестер или гостей такие слова
говорить не стану, и на этом все закончится. С родителями. Но вечно
осуждающий взгляд Анастасии Павловны может отравить жизнь кому
угодно.