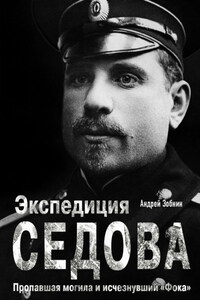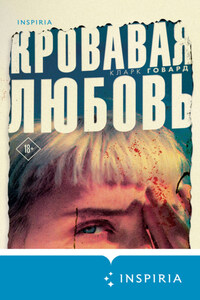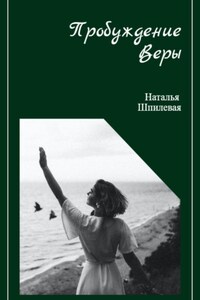Н. Пинегин
Георгий Яковлевич Седов[1]
…Жизнь Седова была столь же необычайна, как и смерть. Родился он в 1877 году в местечке Кривая Коса на берегу Азовского моря в семье бедного рыбака. Убогая обстановка рыбачьей избы, шум моря и блеск его мутных волн – первые впечатления. Позже – игра камушками на берегу под взором заботливой матери, поиски и хранение драгоценностей: обломков поплавков, раковин и крупных блесток рыбьей чешуи, постройка корабликов из долбленой коры, погоня за мелкой рыбешкой – те же игры, как у всех рыбацких детей. Лет с восьми начал помогать отцу в чистке рыбы, в починке ловецких снастей. Иногда удавалось выпроситься в тихую погоду в море с отцом. Наслаждение – тянуть сеть, забитую серебристыми рыбцами, или с трепетом сердца прислушиваться к движению снасти, на которую попалось чудовище-белуга. И редкое счастье – встретить гигант-пароход или окрыленный парусами океанский бриг.
Почти с детства Седову приходилось иметь дело со льдом. Азовский рыбак занят круглый год; лов рыбы не прекращается и зимой, несмотря на то что в зимние месяцы почти все море покрывается льдом. Подледный промысел принимает иногда опасный характер. Лед не долго стоит без движения. Во время штормов он ломается на отдельные поля. Иногда появляются в газетах сообщения, что на оторвавшейся льдине остались рыбаки. Унесенные в открытое море промышленники – бывают случаи – гибнут вместе со снастями с промыслом. Другим после долгих скитаний удается перебраться на берег или получить помощь товарищей, оставшихся на припае. Седов в детстве слыхал о множестве таких приключений. Бывалые люди, неделями терпевшие стужу и холод, были для Седова первыми профессорами сложной науки познания движения и свойств морского льда.
Седов рос неграмотным. Его родители не предполагали, что сын захочет переменить однообразную, тяжелую, но относительно сытую жизнь на что-нибудь иное. А грамота рыбаку для чего? Одно баловство – рассуждали жители сплошь неграмотного поселка. Будь Седов менее любознательным – и он воспринял бы, конечно, в конце концов общие убеждения. Но этого не случилось. Очевидно, дедовские устои уже расшатывались и в глухом приазовском краю; такие рассуждения не действовали даже на малолетних. Слезами и постоянными просьбами, с детства настойчивый, Седов добился своего. Уже четырнадцатилетним его отдали в приходскую школу. Мальчик принялся за учение горячо; учитель обратил внимание на его способности и даже выхлопотал освобождение от платы.