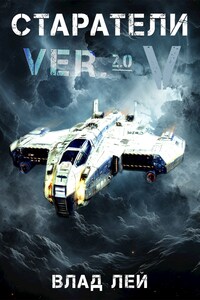Впервые за свои девятнадцать лет Эвальд Климов, поняв, что та незримая электрическая энергия, которая ежесекундно копилась в нём, ширилась, даже пухла, надолго, возможно и навсегда отравившая его, стала просачиваться через его тощее, почти бесплотное тело, решил эту энергию перерабатывать в своих измышлениях о сущем. Но не найдя ж кого-нибудь особо говорливого, остался наедине с собой.
До смешного важный, он, неуклюже слоняясь по людным улицам, отчаянно выискивал глубокими своими глазами друзей или хотя бы знакомых; не найдя их на одной улице, шаркая чуть порванными кедами, плёлся на другую. Делал он так не из брезгливого нежелания позвонить кому-либо и вытащить на неспешную прогулку, а из страха быть уличённым в излишних симпатиях к человеку. А особенно он боялся девушек, считая их существами куда более опасными, чем мужчины. Эвальд понимал, что всякая, может быть, самая недалёкая барышня, обязательно найдёт чем поддеть его, раздразнить в нём тревогу – даже, возможно, сама не ведая этого. Он яснее всех, как ему казалось, видел, как именно женщины опережают в развитии мужчин.
Пытаясь казаться выше, важнее, чем есть, Климов всегда выгибал широкие плечи и вытягивал к небу свою крепкую шею, задирал нос и ловко играл глазами. При своих широких плечах он имел тонкие длинные ноги, отчего его несколько нелепое тело приобретало комичный вид. Тело было назвать плохеньким, скорее – чуть более чем надо, выделяющимся. Для его знакомых эта странная особенность была даже кстати, поскольку на большом расстоянии его нельзя было не признать. Эта двойственность была характерной и для его лица. Так, удивительно красивое в анфас, – с небольшим аккуратным носом, с выразительными густыми бровями, с синевой широко распахнутых глаз и чуть надвинутой на них прядью частых коричневых волос, – оно было поразительно некрасиво в профиль. И, будучи человеком, необычайно осведомлённым о характере своей внешности, в беседах с людьми, а особенно – с девушками, держал свою голову строго прямо – надеялся, что невыгодная его черта никем и никогда не будет замечена.
Период его взросления удивительно точно совпал со временем, когда укоренившаяся в сознании российской массы стабильность рушится, распадается и гниёт. Изламывается весь прежний быт, все великие мечты быстро исчезают за волнительной неопределённостью больших событий, и, только человек находил бы в себе силу признать своё текущее положение, подстроиться под него, как новый, ещё более сильный удар, сшибает и без того нестройную его мысль. Время, когда человека отучают от унылой привычки «думать», и когда варшавянка превращается в пошленький мотивчик, и вообще – моветон.