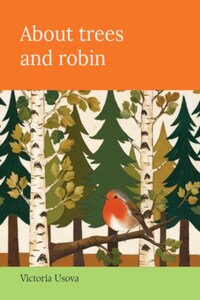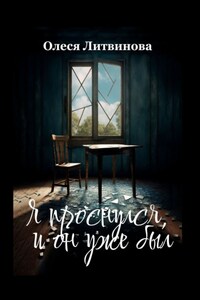Удар. Еще удар. Металлический скрежет крюка, впившегося в сухую древесину яблони, отдавался в висках тупой, навязчивой нотой. Федор бил. Не яростно, не с остервенением, а методично, как заведенный механизм. Его кулаки, туго обмотанные серыми, уже не первой свежести бинтами, встречали резиновую поверхность груши с глухим, влажным чмоканьем. Каждый удар сотрясал не только тяжелый мешок, свисающий на толстой цепи, но и все его тело, отзываясь дрожью в натруженных плечах, в напряженных мышцах спины, в сжатых челюстях. Пот. Он стекал жгучими ручейками по вискам, слипал ресницы, пропитывал тонкую белую майку темными пятнами на спине и под мышками. Воздух был густым, как кисель, пропитанным запахами нагретой за день земли, пыльцы с соседних полей, сладковатой гнили падалицы и едким, знакомым до боли ароматом пота – своим собственным.
Он не считал удары. Счет был для спорта, для правил, для того мира, куда ему предстояло ехать завтра и который виделся ему туманной громадой стекла и бетона, где такие понятия, как честный удар, по расхожему мнению, были смешны. Здесь, под раскидистой яблоней, чьи ветви от тяжести незрелых плодов клонились к земле, как усталые руки, бить было просто физически необходимо. Это был способ выгнать из мышц накопившуюся за день, за неделю, за всю жизнь в этом захолустье сонную одурь. Или, наоборот, загнать внутрь ту тревогу, что клубилась под ребрами холодным комком, росла с каждым тиканьем часов, отсчитывающих последние часы пребывания дома.
Завтра. Слово отдавалось в мозгу эхом, как удар колокола. Завтра закончится все это: пыль на подоконниках, скрип половиц под босыми ногами по утрам, голуби, воркующие под крышей, тяжелый, сытный запах отцовской картошки с салом по вечерам. Завтра начнется другое. Институт. Мегаполис. Будущее.
Удар. Груша отлетела, закружилась на цепи, заскрипев, как несмазанная дверь. Федор поймал ее локтем, прижал к себе на мгновение, ощущая сквозь тонкую майку ее тяжесть, влажность резины, слипшейся от его пота. Потом оттолкнул и замахнулся снова.
Спина горела огнем. Дыхание сбилось, хрипло вырываясь из пересохшего горла. Он чувствовал каждую прожилку, каждое волокно в своих руках – налитые кровью предплечья, сведенные в кулак пальцы, тупую боль в костяшках, приглушенную слоями бинта. Боль была знакомой, почти родной. Ясной. В ней не было подвоха, как в тех смутных обещаниях будущего. Ты бьешь – тебе больно. Все просто. Как уравнение с одним неизвестным.