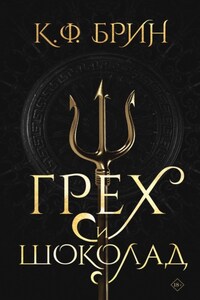В которой моя душа раскалывается на две половины
Кровь. Ее вид, будь то свежий порез на нежной коже или ржавое пятно на бетоне, словно игла вонзается в мои глаза, вызывая волну тошноты и головокружения, близкого к обмороку. Но ту единственную, драгоценную каплю алой жидкости, которую я сам добыл из человеческого тела, вырвал кулаками из живого существа, я не забуду никогда.
Этот момент оказался ключом, повернувшимся в скрипучем замке моей души и распахнувшим тяжелую, запертую на вековые засовы дверь. Дверь в темный запретный мир, где воздух пахнет железом и адреналином, где тени шепчут древние истины, и где я, к своему ужасу и восторгу, впервые почувствовал себя по-настоящему живым. Почувствовал силу, текущую по венам вместо крови.
Это было несколько лет назад, в скромном селе на границе государств, где во времена пандемии, я со своими приятелями-односельчанами оказался на изоляции. Каждый день, как по расписанию безумия, мы собирались в заброшенном домике, затерявшемся в самом сердце поселка. Это ветхое строение стало нашим убежищем, крепостью и клеткой на долгие, растянувшиеся в вечность шесть месяцев всеобщей изоляции. Воздух здесь был густым, тягучим, как патока, пропитанным сыростью и плесенью, въевшейся в самые стены, едкой табачной копотью, оседающей на языке, и перегаром – сладковато-кислым дыханием распада и бегства от реальности. Запах въедался в одежду, в волосы, в легкие, становясь частью нас самих. Застывшие на скрипучих неровных половицах липкие пятна были немыми, но красноречивыми свидетелями бесчисленных ночей, пролитых вместе с дешевым алкоголем, ночей смеха, споров, откровений и молчаливого отчаяния. Эти пятна были картой наших падений и взлетов, нарисованной пивом, вином и чем-то покрепче.
Домик был заброшен давно, наверное, еще до нашего рождения. Снаружи ‒заросший высокой травой и завален многолетними сухими ветками. Время и безразличие съели его краску, покосили стены, заставили стекла в окнах покрыться паутиной трещин. Но мы ‒ дружная, нестройная компания друзей, потерянных по жизни, но нашедших друг друга в этом хаосе, ‒ сделали из этого места свой балаганчик1, привели его в порядок, насколько это было возможно. Выкосили всю траву, почистили дорожки, занесли ненужную мебель, ковры, посуду из собственных домов. Как в детстве, когда строили шалаши из веток, досок и всего, что могло сойти за строительный материал. Только сейчас это был не временный навес, а почти полноценный дом. Дом, где мы чувствовали себя хозяевами, где стены были нашими полотнами, испещренными надписями, рисунками, философскими изречениями и матерными стихами – всем, что рождалось в наших уже взрослых, но все еще бунтующих головах. Мы были студентами, застрявшими между юностью и зрелостью, и этот дом стал нашим переходным мостом, нашим ковчегом.