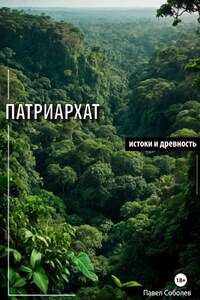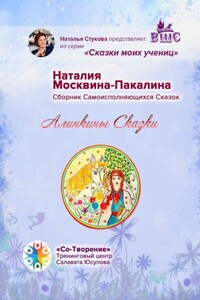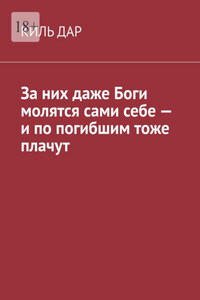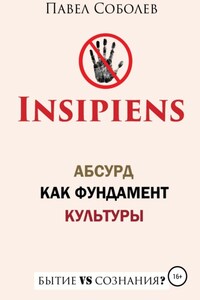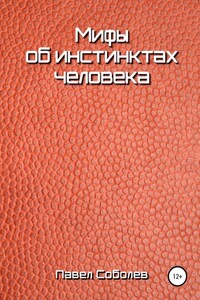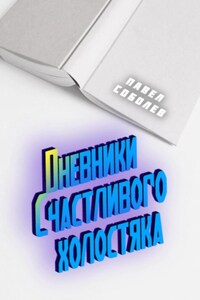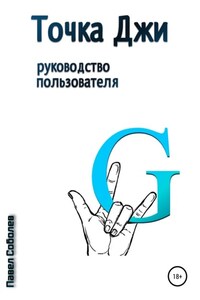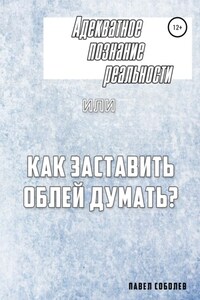Когда речь заходит о мужском господстве, люди делятся на три лагеря. В первом считают господство это столь древним, что истоки его надо искать в седом палеолите: в основном такие гипотезы опираются на древнюю охоту, которая сделала мужчину кормильцем, а женщину зависимой от него. Во втором лагере мужское господство считают довольно недавним явлением, связанным с переходом к производящей экономике где-то в неолите, то есть около 10 тысяч лет назад. В третьем же лагере никакого мужского господства просто не видят.
Исторически сложилось так, что на постсоветском пространстве господствует идея второго лагеря – что патриархат (краткий синоним мужского господства) зародился с переходом к земледелию и скотоводству, когда впервые в истории возникла частная собственность, подчинившая себе жизни людей, но в первую очередь – женщин. Популярность именно этой концепции связана с советским прошлым, когда марксистские идеи были положены в основу всего миропонимания, включая и взгляда на древнюю историю человека. Главным документом, формулировавшим причину мужского господства в производящей экономике, была работа Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». По известным причинам более полувека эта идея в советской науке была безальтернативна, и потому неудивительно, что многомиллионное население стран бывшего СССР до сих пор знает её не только как самую убедительную, но и в принципе как единственную.
На Западе картина сложилась иная, куда разнообразнее. Гипотеза о рождении мужского господства только с переходом к производящей экономике здесь тоже была популярна, но при этом не была единственной и даже доминирующей, а потому научных дискуссий по теме было в избытке. Особенно они оживились в 1960-е, на волне феминистского движения, буквально ворвавшегося и в антропологию. Предложение сместить исследовательскую оптику и попытаться смотреть на историю не просто как на историю общества, но как на отдельные историю мужчин и историю женщин, принесла свои плоды. Феминистские антропологи ввели в науку новые факты из жизни современных собирателей – в первую очередь благодаря новому взгляду на уже хорошо известные явления. Это позволило увидеть дисбаланс власти между полами даже у народов с присваивающей экономикой, то есть с той самой, которая была у людей ещё в палеолите, что добавило аргументов сторонникам лагеря верящих в древность патриархата. Во всех обществах было отмечено, что женский труд занимает куда больше времени, чем мужской – женщины строили хижины, таскали воду, собирали хворост, готовили еду, делали одежду, смотрели за детьми и вдобавок ко всему занимались собирательством. В то же время мужчины в основном только охотились. Свободного времени у женщины было мало, тогда как мужчины охотились далеко не каждый день и легко могли себе позволить играть в игры или заниматься священными ритуалами, для чего много времени тратили на изготовление секретных масок и музыкальных инструментов. При этом, несмотря на то, что женщина производила основную часть необходимых для жизни работ, она ещё и повсеместно была вытеснена из сферы сакрального, за которую отвечали мужчины: когда они устраивали священнодействие, женщины в лучшем случае могли быть только зрителями, но чаще под запретом было и это, а если же женщины пытались дознаться секретов священных ритуалов, для них существовала реальная угроза убийства. Всё это никак не позволяло говорить о равенстве полов даже у собирателей.