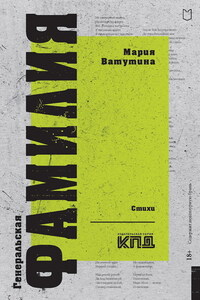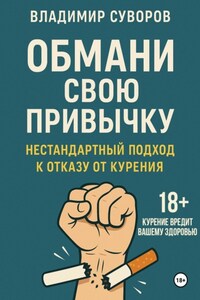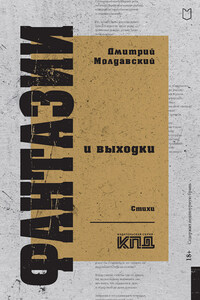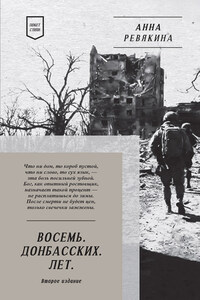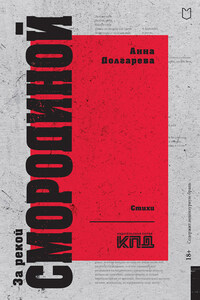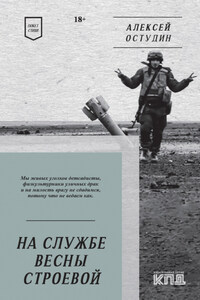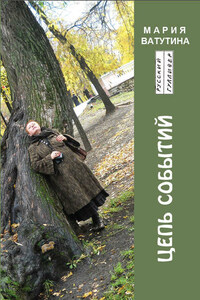Легкая выправка. Неприподъемная боль
Когда пишешь рецензию – положено сравнивать и цитировать.
Но много цитировать – это почти как подворовывать у читателя. Получается спойлер книжки, где, между тем, все должно быть впервые, как в настоящей любви.
А вот сравнить можно, причем желательно поверхностно, потому что как там на глубине – ведомо одному автору.
А то и ему неведомо.
Сравнения скорей нужны читателю – для того чтоб он смирил волнение и понял, что здесь все свои.
Здесь – все свои, читатель. Здесь – родня.
Так что давайте сравним.
Мы имеем дело с поэтом, который, должно быть, в годы былые умел все, и теперь может позволить себе работать в классической традиции.
Бесстрашие, с которым Мария Ватутина берется за самые непереносимые темы, роднит ее и с Юлией Друниной, и с Ольгой Берггольц.
Это первые фамилии, которые приходят на ум: они будто просятся, чтоб их назвали – хотя бы из великого почтения к предшественницам, по сути, открывшим фронтовую женскую поэзию в том виде, как мы ее понимаем сегодня.
Женщины много писали и о Первой мировой – но мы тех имен, во-первых, не помним, а во-вторых, та поэтика в основном, увы, умерла. Потому что в основе той поэтики лежало как бы женское рукоделье. Они как бы вышивали, ожидая ушедших мужчин. А Друнина и Берггольц, насмотревшиеся в самом прямом смысле смертей (одна на фронте, другая в блокадном Ленинграде) и пережившие такое, о чем и сказать страшно, резали по живому. И слова находили для этого простые и живые, как боль и как кровь.
А как же, спросят иные, Цветаева – с ее стихами о Гражданской войне?
Как же Ахматова – с ее античной четкости строчками о нашей Отечественной?
А это несколько другая история. Взгляд их – взгляд с небесной почти высоты. В то время как Друнина и Берггольц – живописали, разглядывая описываемое ими в упор. И этот кровавый таз – с бинтами, осколками, человечиной – несли читателю.
Умение Марии Ватутиной состоит в том, что она может и так и так.
Ее госпитальный цикл – по сути своей фронтовая (или, если строже смотреть, прифронтовая) лирика. Реальность там выхвачена настолько четко, что я всех описанных ею покалеченных бойцов не просто узнал типологически – я теперь с каждым из них конкретно знаком. Кажется, встречу – и опознаю, и, не сдержавшись, окликну. Он спросит, вглядываясь: «Ты… у нас служил? Не припомню, браток…» – отвечу: «Да нет, я в стихах Ватутиной о тебе прочитал. Это же ты?..»